 –ü—Ä–ĺ–∑–į –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–į –®–į—Ä–ĺ–≤–į –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ź—Ä–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ł–ī–Ķ–Ļ –ł —ą–ł—Ä–ĺ—ā–ĺ–Ļ –∑–į–ľ—č—Ā–Ľ–į, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –ē–≥–ł–Ņ–Ķ—ā¬Ľ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–į—Ź –≤ ¬ę–†–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –ē–Ľ–Ķ–Ĺ—č –®—É–Ī–ł–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ, —ā–į–ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ –≤–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —ą–ĺ—Ä—ā-–Ľ–ł—Ā—ā –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł ¬ę–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į¬Ľ. –í —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤—Ć—é Eclectic –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ —ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ –ĺ–Ī–Ľ–Ķ—á—Ć —Ö–į–ĺ—Ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ļ –≤ —Ą–ĺ—Ä–ľ—É —ć–Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –ł –ĺ —ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ĺ–Ņ—č—ā –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł–Ĺ –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź.
–ü—Ä–ĺ–∑–į –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–į –®–į—Ä–ĺ–≤–į –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ź—Ä–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ł–ī–Ķ–Ļ –ł —ą–ł—Ä–ĺ—ā–ĺ–Ļ –∑–į–ľ—č—Ā–Ľ–į, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –ē–≥–ł–Ņ–Ķ—ā¬Ľ, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–į—Ź –≤ ¬ę–†–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –ē–Ľ–Ķ–Ĺ—č –®—É–Ī–ł–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ, —ā–į–ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ –≤–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —ą–ĺ—Ä—ā-–Ľ–ł—Ā—ā –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł ¬ę–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į¬Ľ. –í —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤—Ć—é Eclectic –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ —ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ –ĺ–Ī–Ľ–Ķ—á—Ć —Ö–į–ĺ—Ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ļ –≤ —Ą–ĺ—Ä–ľ—É —ć–Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –ł –ĺ —ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ĺ–Ņ—č—ā –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł–Ĺ –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź.
–í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á, —Ź –∑–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –≤–į—ą –ī–Ķ–Ī—é—ā –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ: –≤¬†1979¬†–≥–ĺ–ī—É –≤–į—ą–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –Ĺ–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ ¬ę–Ě–ĺ–≤—č–Ļ –ľ–ł—ĬĽ. –ö–į–ļ –≤–į–ľ –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ķ–ī–Ľ–ł–≤–嬆–Ľ–ł –≤—č—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ĺ–ł–Ķ, —á—ā–ĺ —Ā—ā–ł—Ö–ł —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –ī–嬆30¬†–Ľ–Ķ—ā, –į¬†–Ņ—Ä–ĺ–∑—ɬ†‚ÄĒ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ 30?
–Ē—É–ľ–į—é, —ć—ā–ĺ –∑–į–≤–ł—Ā–ł—ā –ĺ—ā¬†–į–≤—ā–ĺ—Ä–į¬†‚ÄĒ –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –∑–į–ľ–Ķ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–ł—Ö–ł —Ā¬†—é–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł¬†–ī–嬆—Ā–į–ľ–ĺ–Ļ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł. –Į¬†–∑–į–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ—é –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é ¬ę–ļ–į—Ä—Ć–Ķ—ėɬĽ –≤¬†25¬†–Ľ–Ķ—ā, —ā–嬆–Ķ—Ā—ā—Ć –Ķ—Č–Ķ –ī–嬆—ā–ĺ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ –ľ–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –Ī—č–Ľ–ł –ł–∑–ī–į–Ĺ—č. –Ē–į–Ľ—Ć—ą–Ķ¬†‚ÄĒ –Ņ–ĺ–Ľ—É—ā–ĺ—Ä–į–≥–ĺ–ī–ĺ–≤–į—Ź —ā–ĺ—Ā–ļ–į, –ī–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł—Ź. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ–į –ľ–ĺ—é –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—é—é –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—Ü–ł—é, —ą–į–≥ –∑–į¬†—ą–į–≥–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–Ľ–į –ļ¬†–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ—č–ľ, –Ņ–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—É –ī–į–∂–Ķ –≤—Ź–Ľ—č–ľ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–į–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–∑—É. –Ď—č–Ľ–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź¬†—Ā–ĺ—á–ł–Ĺ—Ź–Ľ –ł¬†—Ā–ļ–į–∑–ļ–ł; –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –Ī—č–Ľ–ł —É–ī–į—á–Ĺ—č–ľ–ł, –ĺ–Ĺ–ł –ł–∑–ī–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć, –Ŗ嬆–ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č –ł¬†—ć—ā–ĺ —Ā–ĺ—ą–Ľ–ĺ –Ĺ–į¬†–Ĺ–Ķ—ā. –°–Ľ–ĺ–≤–ĺ–ľ, —ɬ†–≤—Ā–Ķ—Ö –Ĺ–į—Ā –Ķ—Ā—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ł–Ļ –Ľ–ł–ľ–ł—ā, –∑–į—Ä—Ź–ī, –ł¬†–ļ—ā–嬆–Ī—č –ł¬†—á—ā–ĺ –Ĺ–į¬†—ć—ā–ĺ—ā —Ā—á–Ķ—ā –Ĺ–ł¬†–ī—É–ľ–į–Ľ, –ĺ–Ĺ —Ä–į–∑–ĺ–ľ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ł—Ā—Ā—Ź–ļ–Ĺ—É—ā—Ć. –ß—ā–ĺ –ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤, —ā–嬆–∑–į–ī–Ĺ–ł–ľ —á–ł—Ā–Ľ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é, —á—ā–ĺ —ā–ĺ—ā —ć—ā–į–Ņ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ –≤–į–∂–Ĺ—č–ľ¬†‚ÄĒ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź —Ā–嬆—Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ–ľ. –Ě–Ķ¬†–Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–Ľ–ł –ł¬†—Ā–ļ–į–∑–ļ–ł. –ü—Ä–ĺ–∑–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é —Ź¬†–Ņ–ł—ą—É,‚ÄČ‚ÄĒ —Ā–Ņ–Ľ–į–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ–Ļ –ł, –ļ–į–ļ –Ĺ–ł¬†–Ņ–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł, –Ī–Ķ–∑—É–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł —Ā–嬆—Ā–ļ–į–∑–ļ–ĺ–Ļ. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į, –Ī–Ķ–∑ —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ–ĺ–Ļ.
–°–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā¬†–Ľ–ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—é –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –≤–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –ľ—É–∑—č –ł–Ľ–ł –ĺ–Ĺ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ —Ā–į–ľ –Ķ–Ķ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ—Ź—ā—Ć?
–ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł –∑–į–ľ–Ķ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ł¬†¬ę–ļ—É—Ö–Ĺ—Ź¬Ľ —ɬ†–ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ —Ā–≤–ĺ—Ź. –ß—ā–ĺ –ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, —ā–嬆—Ź¬†–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é –∑–į¬†–≥–Ķ—Ä–ĺ—Ź–ľ–ł, –∑–į¬†—Ā—é–∂–Ķ—ā–ĺ–ľ. –ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –ľ—č –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä—É–Ķ–ľ —Ā–≤–ĺ—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –Ŗ嬆—Ā–Ľ—É—ą–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–į—Ā —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ. –Ę–į–ļ –ł¬†—ɬ†–ľ–Ķ–Ĺ—Ź: —Ź¬†—ā–ĺ–∂–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ—é –ļ–į–ļ–ł–Ķ-—ā–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ—č, –Ŗ嬆–ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –≥–Ķ—Ä–ĺ–ł —Ā–į–ľ–ł —Ä–Ķ—ą–į—é—ā, —á—ā–ĺ –ł–ľ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć, –ļ–į–ļ–ł–ľ –Ņ—É—ā–Ķ–ľ –ł–ī—ā–ł, –į¬†—Ź, –ī–Ķ—Ä–∂–į—Ā—Ć –Ĺ–į¬†–Ņ—Ä–ł–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—Č–Ķ–ľ —Ä–į—Ā—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł–ł, –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —Ā—ā–į—Ä–į—é—Ā—Ć –ł–ľ –Ĺ–Ķ¬†–ľ–Ķ—ą–į—ā—Ć.
–ö–į–ļ–ł–Ķ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –≤–į–∂–Ĺ—č –ī–Ľ—Ź —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź?
–ß–į—Ā—ā–ĺ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā —ā–į–ļ, —á—ā–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤—É—ā –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, —ā–į–ļ –ł¬†–≤¬†–≥—Ä–ĺ–Ī –Ľ—Ź–≥—É—ā –į–Ī—Ā–ĺ–Ľ—é—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ķ—ā—Ć–ľ–ł¬†‚ÄĒ —Ā¬†—ā–ĺ–Ļ —Ą–į–Ĺ—ā–į–∑–ł–Ķ–Ļ, –Ĺ–į–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ—ā–ĺ–Ļ –ł¬†–Ĺ–ĺ–≤–ł–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź –ľ–ł—Ä–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ľ–ł—ą—Ć –ī–Ķ—ā—Ź–ľ –ł¬†–ī–į–Ĺ–į. –Į¬†–Ĺ–Ķ¬†–ľ–ĺ–≥—É —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –≤¬†—Ā–Ķ–Ī–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ł¬†–Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł–≤–į—ā—Ƭ†‚ÄĒ —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ, —ć—ā–ĺ –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, —á–Ķ—Ä—ā–į —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į.
–í—č –Ņ–ł—ą–Ķ—ā–Ķ –ī–Ľ—Ź —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į¬†XXI¬†–≤–Ķ–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤–ł–ī–ł—ā –≤¬†–ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ –≤¬†–Ņ–Ķ—Ä–≤—É—é –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ć —Ä–į–∑–≤–Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –į¬†–Ĺ–Ķ¬†–ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ. –Ě–į–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į–Ķ—ā¬†–Ľ–ł —ć—ā–ĺ –ĺ—ā–Ņ–Ķ—á–į—ā–ĺ–ļ –Ĺ–į¬†–≤–į—ą—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É?
–Ě–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ. –Į¬†–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–∑–Ĺ–į—é, –ī–į–∂–Ķ —ā–Ķ–ĺ—Ä–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł, –ļ–į–ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–≥–ĺ–ī–ł—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—é, –Ņ—Ä–ł—Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ļ¬†–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ź–ľ, –≤–Ķ–ī—Ć —ć—ā–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –ĺ–Ĺ–ł —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ł¬†–ĺ—ā¬†–ļ–Ĺ–ł–≥–ł —ā–ĺ–∂–Ķ –∂–ī—É—ā —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –ö–į–ļ –≤¬†XX, —ā–į–ļ –ł¬†–≤¬†XXI¬†–≤–Ķ–ļ–Ķ —Ź¬†–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á–ł—ā–į—é –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź ‚Äď –į¬†—ā–ĺ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–ľ –ł¬†–ī—Ä—É–≥–ł–ľ, –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ĺ–ļ.
–ö–į–ļ —Ä–ĺ–∂–ī–į—é—ā—Ā—Ź –≤–į—ą–ł –ļ–Ĺ–ł–≥–ł? –ö–ĺ–≥–ī–į –≤—č –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā–Ķ, —á—ā–ĺ ¬ę–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ –Ī—č—ā—ƬĽ, –ł¬†–ļ–į–ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā—Ć —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –Ĺ–į–ī –Ĺ–Ķ–Ļ?
–ú–Ķ–∂–ī—É –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –ł¬†—Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ĺ–Ļ¬†‚ÄĒ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ī–Ķ–∑–Ĺ–į–ī–Ķ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –≥–ĺ–ī-–Ņ–ĺ–Ľ—ā–ĺ—Ä–į. –Į¬†—ā–ĺ–≥–ī–į –ļ–į–∂—É—Ā—Ć —Ā–Ķ–Ī–Ķ (–ł¬†–Ĺ–į¬†—Ā–į–ľ–ĺ–ľ –ī–Ķ–Ľ–Ķ —Ź–≤–Ľ—Ź—é—Ā—Ć) –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—č–ľ, –≤—č—á–Ķ—Ä–Ņ–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ī–嬆–ī–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—Ü–Ķ–ľ. –̖嬆–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —ā–į–ļ –ł–Ľ–ł –ł–Ĺ–į—á–Ķ —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—Ź–Ķ—ā. –°–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–Ķ –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ-—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–į–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –Ē–į–Ľ—Ć—ą–Ķ —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ—Ź—é—ā –Ľ—é–ī–ł¬†‚ÄĒ —Ā–嬆—Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź–ľ–ł, —Ā–嬆—Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł —Ā—É–ī—Ć–Ī–į–ľ–ł. –£¬†–Ĺ–ł—Ö —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ŗ嬆–ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č –ĺ–Ĺ–ł –ī–ĺ–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ī—Ä—É–≥ —Ā¬†–ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ. –≠—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ –Ĺ–į¬†—É–Ľ–ł—Ü—É: –ĺ–Ĺ–į –∑–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–į –≤¬†—Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ–ł –∑–į–ļ–į–∑—á–ł–ļ–į–ľ–ł –ł¬†–į—Ä—Ö–ł—ā–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–į–ľ–ł. –ß–į—Ā—ā–ĺ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā —ā–į–ļ, —á—ā–ĺ –ī–ĺ–ľ√° —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ¬†—Ö–ĺ—ā—Ź—ā —Ā—ā–ĺ—Ź—ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ, –≥–Ľ—É–ľ—Ź—ā—Ā—Ź –ł¬†–ł–∑–ī–Ķ–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ī—Ä—É–≥ –Ĺ–į–ī –ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ, –Ŗ嬆–ľ–ł–Ĺ–Ķ—ā –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ —Ā—Ä–ĺ–ļ, –ł¬†–ĺ–Ĺ–ł¬†‚ÄĒ –ī–Ķ—ā—Ć—Ā—Ź –≤–Ķ–ī—Ć –Ĺ–Ķ–ļ—É–ī–į¬†‚ÄĒ –ī–ĺ–≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ. –Ę–ĺ–≥–ī–į –ł¬†–≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–į–Ķ—ā —É–Ľ–ł—Ü–į. –≠—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ –ł¬†–Ĺ–į¬†–∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –ł¬†–Ĺ–į¬†—Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ: –≤–Ķ—Č–ł, –≤–∑—Ź—ā—č–Ķ –Ī–ĺ–≥ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā –ĺ—ā–ļ—É–ī–į, —Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—ā—Ā—Ź, —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤—Ź—ā—Ā—Ź –ī—Ä—É–≥ –ī–Ľ—Ź –ī—Ä—É–≥–į —Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ–ł, –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ—č–ľ–ł.
–ß—ā–ĺ –ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –∂–Ķ—Ā—ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č, —ā–嬆—ɬ†–ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ—ā. –Į¬†–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ¬†—É–ľ–Ķ—é –Ķ–≥–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć. –ú–Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –ī–嬆—ā–Ķ—Ö –Ņ–ĺ—Ä, –Ņ–ĺ–ļ–į —Ź¬†–Ĺ–Ķ¬†–∑–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –Ī—É–ī–Ķ—ā –Ĺ–į¬†—Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–Ļ¬†—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ,¬†‚ÄĒ –Ņ—Ä–ł –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–į–ļ–ł–Ķ –ļ—É—Ā–ļ–ł –ł¬†–ĺ—Ā—ā–į—é—ā—Ā—Ź. –§—Ä–į–≥–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č, —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ–Ī—č—á–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ĺ–≥–ł–ļ–ĺ–Ļ, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –≤—č–Ņ–į–ī–į—é—ā. –ú–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł—ā –Ņ—Ä–ĺ–∑–Ķ¬†‚ÄĒ –≤–嬆–≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ, –ľ–ĺ–Ķ–Ļ.
 –ź –ī–嬆–ļ–į–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –Ĺ–į–ī–ĺ –ł–ī—ā–ł –Ĺ–į¬†–Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É —ɬ†—ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į –ł¬†–Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź—ā—Ć –Ķ–ľ—É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź?
–ź –ī–嬆–ļ–į–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –Ĺ–į–ī–ĺ –ł–ī—ā–ł –Ĺ–į¬†–Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É —ɬ†—ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į –ł¬†–Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź—ā—Ć –Ķ–ľ—É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź?
–Į –Ņ—Ä–į–≤–Ľ—é –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –Ī—č–≤–į–Ķ—ā 10‚Äď15¬†—Ā–Ľ–ĺ–Ķ–≤ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–ł, —Ö–ĺ—ā—Ź –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤–Ĺ–ĺ—ą—É –Ĺ–Ķ¬†–Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ¬†‚ÄĒ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ł—Ä—É—é —Ź–∑—č–ļ, —Ā—ā–ł–Ľ–ł—Ā—ā–ł–ļ—É. –°—é–∂–Ķ—ā–Ĺ—č–Ķ –Ľ–ł–Ĺ–ł–ł, –ļ–Ľ—é—á–Ķ–≤—č–Ķ —Ā—Ü–Ķ–Ĺ—č –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ĺ–Ķ¬†–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é. –ü–ĺ–ī–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é, —ā–į–ļ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, –ľ–į–ļ–ł—Ź–∂. –ě–Ī—č—á–Ĺ–ĺ –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –ļ—É—Ā–ĺ–ļ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ľ—É—á—ą–Ķ, —á–Ķ–ľ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ, –ł¬†—ā—č –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł—ą—Ć –≤—Ā—é –ļ–Ĺ–ł–≥—É. –ö–ĺ–≥–ī–į –ĺ—ā¬†–≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ī–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ —É—Ā—ā–į–Ķ—ą—Ć, –∑–Ĺ–į—á–ł—ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –∑–į–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–į.
–ó–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –∑–į¬†–≤–į–ľ–ł –∑–į–ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł–Ľ–į—Ā—Ć —Ä–Ķ–Ņ—É—ā–į—Ü–ł—Ź ¬ę–ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä–į –ł–Ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ļ–į—Ü–ł–ł¬Ľ. –ö–į–ļ –≤—č –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ—Ā—Ć –ļ¬†—ā–į–ļ–ĺ–ľ—É —ā–ł—ā—É–Ľ—É?
–Į —ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—é —Ā–Ķ–Ī—Ź –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ļ–į—ā–ĺ—Ä–į. –Ē—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ—Ä–ł–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į¬†–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā—č–Ķ –ł¬†–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ľ—č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –嬆—Ā–Ķ–Ī–Ķ, —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł, –ľ–ł—Ä–Ķ; –ļ–ĺ–≥–ī–į¬†–∂–Ķ –Ņ–ĺ–Ņ–į–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ—á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–į—Č–Ķ–Ķ —ć—ā–ĺ–ľ—É, —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł—Ź –Ī—č–≤–į–Ķ—ā –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ.¬†–Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –ł¬†–≤¬†–ľ–ĺ–ł—Ö —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į—Ö –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ ¬ę–Ķ—Ä–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–嬼, –Ŗ嬆—É–ľ—č—Ā–Ľ–į –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ—ā. –≠—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –ľ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł, —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—ā—É—Ä—č.
–ú–ĺ–∂–Ķ—ā–Ķ¬†–Ľ–ł –≤—č –ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤¬†–ē–≥–ł–Ņ–Ķ—ā¬Ľ? –ö–ĺ–≥–ĺ –≤—č –ī–Ķ—Ä–∂–į–Ľ–ł –≤¬†—É–ľ–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–ł –ļ–Ĺ–ł–≥—É?
–ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ķ—Ā—ā—Ć –Ľ—é–ī–ł, –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –≤–į–∂–Ĺ–ĺ, –Ŗ嬆–≤¬†–Ņ–Ķ—Ä–≤—É—é –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ć –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź¬†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–į –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ĺ–į—ą –ľ–ł—Ä. –ē—Ā–Ľ–ł —Ö–ĺ—ā–ł—ā–Ķ¬†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ–Ļ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–Ļ: –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ł–Ī–ĺ—Ä—č —É¬†—Ą–ł–∑–ł–ļ–į –ł–Ľ–ł —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ—č —É¬†–ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł–ļ–į. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–嬆‚ÄĒ –ļ–į–ļ –ł–Ĺ–į—á–Ķ —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–ł¬†—Ā¬†—á–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ¬†—Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–ľ—É—é –Ņ–ĺ–ī–≤–ł–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ľ—č—Ā–Ľ–Ķ–Ļ, –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, —á—É–≤—Ā—ā–≤? –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ–Ľ—É—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ķ—ā. –ź¬†–Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į¬†‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ–∑–į, —Ā—ā–ł—Ö–ł, –ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł, –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź, –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į¬†‚ÄĒ —Ö–ĺ—ā—Ć –ļ–į–ļ-—ā–ĺ —Ā¬†—ć—ā–ł–ľ —Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź.
¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤¬†–ē–≥–ł–Ņ–Ķ—ā¬Ľ¬†‚ÄĒ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –≤¬†–Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į—Ö. –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –≤—č –ĺ—ā–ī–į–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ–ľ—É —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī—É –ł–∑–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź?
–§–ĺ—Ä–ľ–į—ā –Ī—č–Ľ –≤—č–Ī—Ä–į–Ĺ —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ–Ĺ–ĺ –ł¬†–Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –ļ–ĺ–ľ—Ą–ĺ—Ä—ā–Ĺ—č–ľ. –ě–Ī—č—á–Ĺ–ĺ —Ź¬†–Ņ–ł—ą—É –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤–Ķ—Č–ł, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —ā–į–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –≤¬†–ļ–į–ļ–ĺ–ľ-—ā–ĺ —Ä–ĺ–ī–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–į –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ļ¬†—Ā—ā–ł—Ö–į–ľ: –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł¬†—Ā–ļ–ĺ—Ė嬆‚ÄĒ –≤¬†–ĺ–ī–ł–Ĺ –ī–Ķ–Ĺ—Ć, –Ĺ–Ķ¬†–≤—č–ī—č—Ö–į—Ź—Ā—Ć, –Ĺ–Ķ¬†—ā–Ķ—Ä—Ź—Ź —ā–Ķ–ľ–Ņ–į,‚ÄČ‚ÄĒ –ĺ–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź.
–ė–ī–Ķ—Ź –∑–į—Ä–ĺ–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź¬†–Ĺ–į—ā–ļ–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į¬†–Ě–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –į—Ä—Ö–ł–≤, —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–≤—ą–ł–Ļ—Ā—Ź —ā–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–į¬†–Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ, –≤¬†—Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–ľ —Ā¬†—Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–į ¬ę–ó–Ĺ–į–ľ—Ź¬Ľ –Ņ–ĺ–ī—ä–Ķ–∑–ī–Ķ. –Į¬†–∑–į—ą–Ķ–Ľ, —É–∑–Ĺ–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–嬆—É—Ā—ā–į–≤—É —Ā–ī–į—ā—Ć –≤¬†—ć—ā–ĺ—ā –į—Ä—Ö–ł–≤ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į, –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź, –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –į–Ī—Ā–ĺ–Ľ—é—ā–Ĺ–ĺ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, –ł¬†—Ä–Ķ—ą–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ ¬ę–ľ–ĺ–Ķ¬Ľ, —á—ā–ĺ —Ź¬†–Ī—É–ī—É —Ā–į–ľ—č–ľ –Ņ—Ä–ł–Ľ–Ķ–∂–Ĺ—č–ľ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ—ā–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —ā–į–ļ —Ā–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–į—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź¬†—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į —ā–į–ľ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź, –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –į—Ä—Ö–ł–≤ –ļ—É–ī–į-—ā–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ľ–ł, –į¬†–Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –ł¬†–≤–ĺ–≤—Ā–Ķ –∑–į–ļ—Ä—č–Ľ–ł.
–≠—ā–ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ¬†–Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į –∑–į—Ā–Ķ–Ľ–ł —ɬ†–ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤¬†–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ķ, –ł¬†—Ź¬†—Ā—ā–į–Ľ –ī—É–ľ–į—ā—Ć –嬆–∂–ł–∑–Ĺ–ł –ļ–į–ļ –ĺ–Ī¬†–ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–ľ —Ą–ĺ–Ĺ–ī–Ķ. –Ď—č–Ľ–į –ł¬†–Ķ—Č–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–į –≤–Ķ—Č—Ć: —ɬ†—Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —Ź¬†–Ī—č–Ľ –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Č–ł–ľ —Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–ľ –ł¬†–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –ľ–Ķ—á—ā–į–Ľ –嬆–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ¬†‚ÄĒ —Ā¬†–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź–ľ–ł, —Ā–Ķ—Ā—ā—Ä–į–ľ–ł, –ļ—É—á–Ķ–Ļ —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ī–Ĺ–ł. –°–Ľ–ĺ–≤–ĺ–ľ, –ĺ—ā—á–į—Ā—ā–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ŭ†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–į –Ņ—Ä–ł–ī—É–ľ–į—ā—Ć, –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć —ā–ĺ, —á–Ķ–≥–ĺ –≤¬†–ľ–ĺ–Ķ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ¬†—Ö–≤–į—ā–į–Ľ–ĺ.

¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –ē–≥–ł–Ņ–Ķ—ā¬Ľ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–į –®–į—Ä–ĺ–≤–į ‚ÄĒ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –≤ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į—Ö –ĺ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ –ď–ĺ–≥–ĺ–Ľ–Ķ-–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ, –ī–ĺ–Ņ–ł—Ā–į–≤—ą–Ķ–ľ ¬ę–ú–Ķ—Ä—ā–≤—č–Ķ –ī—É—ą–ł¬Ľ
–†–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ņ–ĺ–Ņ–į–Ľ –≤¬†—ą–ĺ—Ä—ā-–Ľ–ł—Ā—ā ¬ę–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł¬Ľ. –í–į–∂–ŗ謆–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł –ī–Ľ—Ź —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į?
–í–Ĺ–Ķ –≤—Ā—Ź–ļ–ł—Ö —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ¬†‚ÄĒ —Ö–ĺ—ā—Ź –ł¬†–Ĺ–Ķ¬†–Ĺ–į–Ņ—Ä—Ź–ľ—É—é. –ö–Ĺ–ł–≥ –Ĺ–Ķ¬†–Ī—č–≤–į–Ķ—ā –Ī–Ķ–∑ –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –Ĺ–į—ą–ł—Ö –ł¬†–∑–į—Ä—É–Ī–Ķ–∂–Ĺ—č—Ö, –į¬†–ī–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł –ł¬†—á–ł—Ā–Ľ–ĺ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ¬†‚ÄĒ –Ņ–ĺ—á—ā–ł —Ā–ł–Ĺ–ĺ–Ĺ–ł–ľ—č. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –Ĺ–Ķ—ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ł–Ĺ—ā–ł–ľ–Ĺ—č—Ö –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, —á–Ķ–ľ —Ā–≤—Ź–∑—č–≤–į—é—Č–ł–Ķ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł¬†–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ–į. –í¬†—Ā—É—Č–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, —ā—č –ł¬†–ĺ–Ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ¬†‚ÄĒ –≥–ĺ–ī, –ī–≤–į, –į¬†—ā–嬆–ł¬†–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ. –ö–į–∂–ī–ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ, –ļ–į–∂–ī–į—Ź –∑–į–Ņ—Ź—ā–į—Ź –≤¬†—ā–Ķ–ļ—Ā—ā–Ķ¬†‚ÄĒ –≤–į—ą–ł –ĺ–Ī—Č–ł–Ķ. –ü–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –≤–į–∂–Ĺ–į.¬†–̖嬆—Ź, –≤–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ –ł¬†–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –ī—Ä—É–≥–ł—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, —Ä–į–ī–ł –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ¬†—Ā—ā–į–Ĺ—É.
–ź –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ–į—Ź —Ā–≤—Ź–∑—Ć —Ā¬†—á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł¬†‚ÄĒ –ĺ–Ĺ–į –ł–≥—Ä–į–Ķ—ā —Ä–ĺ–Ľ—Ć?
–Ě–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ—É—é. –Ē–Ķ–Ľ–ĺ –≤¬†—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –≤¬†—Ö–ĺ–ī–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č —ā—č, –Ī—É–ī—ā–ĺ –≤¬†–ļ–į–ľ–Ķ—Ä–Ķ, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ą—Ć—Ā—Ź –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł –≤–Ķ—Č–ł. –ź¬†–ĺ—ā—ā—É–ī–į –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –ł¬†–ļ–į–ļ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ. –ß–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ƭ†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —ā–≤–ĺ–Ļ —ą–į–Ĺ—Ā –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, —á—ā√≥ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —É¬†—ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –Ŗ嬆–ł¬†–ī–≤–Ķ—Ä—Ć, —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č —ā—č –≤—č–Ļ–ī–Ķ—ą—Ć –Ĺ–į—Ä—É–∂—É. –ʖ嬆–Ķ—Ā—ā—Ć —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č–ľ, –≥–ĺ—ā–ĺ–≤—č–ľ –ī–Ľ—Ź —á–Ķ–≥–ĺ-—ā–ĺ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ.
–ö–į–ļ –≤—č –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ—Ā—Ć –ļ¬†—ć–ļ—Ä–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź–ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ?
–Į –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é –≤¬†–ļ–ł–Ĺ–ĺ, –ł, —Ö–ĺ—ā—Ź —Ā—ā–į–Ľ–ļ–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź —Ā¬†–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł —ć–ļ—Ä–į–Ĺ–ł–∑–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ľ–ĺ–ł –≤–Ķ—Č–ł, –Ĺ–ł—á–Ķ–ľ –Ņ—É—ā–Ĺ—č–ľ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –Ē—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–į —Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ, —Ä–į–ī–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā—ą–ł—Ä–ł—ā—Ć –į—É–ī–ł—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į. –≠—ā—É —ā–Ķ–Ĺ–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł—é –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –Ĺ–į–∑–≤–į—ā—Ć –Ĺ–ł¬†–Ņ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ–Ļ, –Ĺ–ł¬†—Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ļ¬†‚ÄĒ –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ–ł–∑–Ī–Ķ–∂–Ĺ–į, –Ŗ嬆–ľ–Ĺ–Ķ, –Ķ—Ā–Ľ–ł —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ¬†–Ī–Ľ–ł–∑–ļ–į. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ –≤¬†—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć –ī–≤–Ķ –≤–Ķ—Č–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ĺ–Ķ—ā –ł¬†–Ĺ–Ķ¬†–ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –≤¬†–ļ–ł–Ĺ–ĺ.
–ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź¬†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –í¬†–ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ, –Ņ–ł—ą–Ķ—ą—Ć –Ķ—Č–Ķ –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ. –ß–ł—ā–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥—É, —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ą—Ć –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ, –≤–Ķ–ī—Ć –Ĺ–Ķ—ā –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —á–Ķ–ľ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ. –í–ĺ—ā —Ź¬†—Ā–ļ–į–∂—É –≤–į–ľ ¬ę–ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–嬼¬†‚ÄĒ –Ŗ嬆–≤–Ķ–ī—Ć —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ć–Ķ–≤ —ā—č—Ā—Ź—á–ł, –į¬†–≤¬†–ļ–į–ī—Ä–Ķ —ā—č —Ā—Ä–į–∑—É –≤–ł–ī–ł—ą—Ć, –Ī–Ķ—Ä–Ķ–∑–į —ć—ā–ĺ –ł–Ľ–ł –ī—É–Ī.¬†–í—ā–ĺ—Ä–į—Ź –≤–į–∂–Ĺ–į—Ź –≤–Ķ—ȗƬ†‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥—É –≤¬†—Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ —Ä–ł—ā–ľ–Ķ: —ā–嬆–ľ–Ķ–ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ķ, —ā–嬆–Ī—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ķ, –ĺ—ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į—Ź –ł¬†—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į—Ź—Ā—Ć –ļ¬†–Ņ–ĺ–Ĺ—Ä–į–≤–ł–≤—ą–Ķ–Ļ—Ā—Ź —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ.
–ö–Ĺ–ł–∂–Ĺ—č–Ļ –ľ–ł—Ä —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ņ—Ä–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ē—Ā—ā—Ƭ†–Ľ–ł, –Ņ–ĺ-–≤–į—ą–Ķ–ľ—É, –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–Ķ —ɬ†–ļ–Ĺ–ł–≥–ł –ļ–į–ļ –Ī—É–ľ–į–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź?
–Ē—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–Ķ¬†‚ÄĒ –Ņ—É—Ā—ā—Ć –ł¬†–Ĺ–Ķ¬†—ā–į–ļ–ĺ–Ķ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ķ, –ļ–į–ļ —Ä–į–Ĺ—Ć—ą–Ķ,¬†‚ÄĒ –Ķ—Ā—ā—Ć: –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –Ĺ–Ķ¬†–ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ĺ –∂–ł–≤–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ć, –ļ–ł–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ĺ —ā–Ķ–į—ā—Ä.¬†–ö–Ĺ–ł–≥–į —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ, –į¬†—ć—ā–ĺ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ –∑–Ĺ–į–ļ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į –Ī—É–ī–Ķ—ā —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į. –ē—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ¬†—Ą–ĺ–ļ—É—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į¬†–ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ –ļ–į–ļ –≤–Ķ—Č–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ¬†‚ÄĒ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į¬†—Ā¬†—ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ—á–Ķ—ā–ļ–ĺ–Ļ, –Ĺ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—É–Ī—Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–Ķ–Ļ, –ļ–į–ļ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ, —Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ—É—é —á–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł–ļ–ł, –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č.
–í –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ—č–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ľ—é–ī–ł –≤—Ā—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –ī–Ķ–Ĺ—Ć –∑–į¬†–ī–Ĺ–Ķ–ľ –≤–Ķ–Ľ–ł –ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ, –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ā–ļ—Ä—É–Ņ—É–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ –∑–į–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ľ–ł¬†—Ā–į–ľ—č–Ķ –Ĺ–Ķ–∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź. –ė–Ĺ–į—á–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ: –ĺ–Ĺ–į —á–Ķ—Ä–Ķ—Ā—á—É—Ä –ĺ—ā—Ä—č–≤–ł—Ā—ā–į, –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł¬†–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –∑–į–Ī–ł–≤–į–Ķ—ā, –≥–Ľ—É—ą–ł—ā –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ķ. –ü–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤–嬆–≤—Ā–Ķ–ľ —ć—ā–ĺ–ľ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—Ź, –ĺ–Ī–ī—É–ľ—č–≤–į—Ź, –∑–į–Ņ–ł—Ā—č–≤–į—Ź. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ā—Ź —Ź—Ā–Ķ–Ĺ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–Ļ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ. –Ę–ĺ—ā —Ā–ľ—č—Ā–Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ł¬†—Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –Ĺ–į—Ā –Ľ—é–ī—Ć–ľ–ł.
–ö–į–ļ –≤—č –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ—Ā—Ć –ļ¬†–ī–ł–į–≥–Ĺ–ĺ–∑—É, —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –ĺ–Ī—Č–ł–Ļ —É—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź —Ā–Ĺ–ł–∑–ł–Ľ—Ā—Ź?
–Ę–ĺ—á–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ¬†–∂–Ķ, –ļ–į–ļ –ł¬†—Ź–∑—č–ļ, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į, –Ĺ–į¬†–ľ–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī, —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ—á–ł—Č–į—é—Č–į—Ź—Ā—Ź. –ě–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź, —Ä–į–∑–≤–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź, –≤–Ī–ł—Ä–į–Ķ—ā –≤¬†—Ā–Ķ–Ī—Ź —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ, –ł¬†–≤—č–ļ–ł–ī—č–≤–į–Ķ—ā –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ķ. –ú–ĺ–≥—É —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ĺ—ā¬†–Ľ—é–ī–Ķ–Ļ, —á–ł—ā–į—é—Č–ł—Ö —Ä—É–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā–ł, –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–ł–Ķ –≤¬†¬ę—ā–ĺ–Ľ—Ā—ā—č–Ķ¬Ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ķ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ—č, —Ź¬†—Ā–Ľ—č—ą—É –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ—č–Ķ¬†‚ÄĒ —É—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č, —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ, –≤—č—Ä–ĺ—Ā.
–Į —É–≤–į–∂–į—é –ł¬†–Ľ—é–Ī–Ľ—é –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ¬†‚ÄĒ –ú–ł—ą—É –®–ł—ą–ļ–ł–Ĺ–į, –Ē–ł–ľ—É –Ď—č–ļ–ĺ–≤–į, –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ—É –£–Ľ–ł—Ü–ļ—É—é, –ē–≤–≥–Ķ–Ĺ–ł—Ź –í–ĺ–ī–ĺ–Ľ–į–∑–ļ–ł–Ĺ–į –ł¬†–ī—Ä—É–≥–ł—Ö, —ā–į–ļ —á—ā–ĺ –ł¬†–ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –≤¬†–Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –≤—Ā–Ķ –Ĺ–Ķ¬†—ā–į–ļ¬†—É–∂ –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ.
–í –Ľ—é–Ī–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ķ—Ā—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ —á–ł—Ā–Ľ–ĺ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č—Ö –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł–ļ–ĺ–≤, —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ–≤, —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤. –í¬†—Ā–į–ľ–ĺ–Ķ –ľ—Ä–į—á–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł –ł¬†–ď—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č, –ľ—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–Ļ —Ä–į—Ā—Ü–≤–Ķ—ā —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –Ē–Ķ–Ľ–ĺ –≤¬†—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į –Ĺ—É–∂–Ĺ–į, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ľ—é–ī–ł —Ā—ā—Ä–į–ī–į—é—ā. –ě–Ĺ–į –Ĺ–Ķ¬†—Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ĺ–į—Ā —É—ā–Ķ—ą–į–Ķ—ā, –Ĺ–ĺ, –∑–į–Ņ–ł—Ā–į–≤ –ł¬†—Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–≤, —Ö–ĺ—ā—Ć –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –ł—Ā–ļ—É–Ņ–į–Ķ—ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –≥–ĺ—Ä–Ķ. –Ě–Ķ¬†–∂–Ķ–Ľ–į—Ź –∑–Ĺ–į—ā—Ć –ł¬†–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ī–Ķ–ī—č, —Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ĺ–ł—Ź¬†‚ÄĒ —á—ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł, —á—ā–ĺ –ī—Ä—É–≥–ł—Ö¬†‚ÄĒ –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∂–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź –≤¬†–Ī–Ķ—Ā–Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ā—ā–≤–ĺ. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ¬†–ī–į–Ĺ–ĺ.
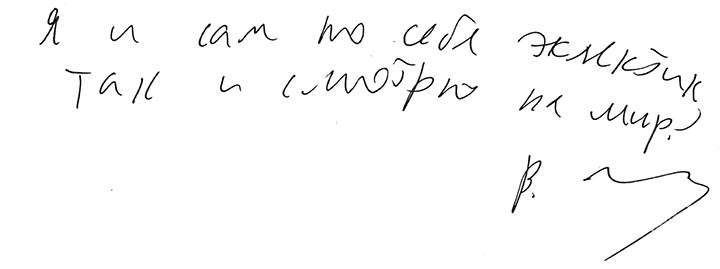
¬†–Ď–Ķ—Ā–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ–į –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –ö–ĺ–∑–Ľ–ĺ–≤–į
–§–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł: –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ú—É—Ö–į–ľ–Ķ—ā—á–ł–Ĺ
–ú–Ķ—ā–ļ–į –ė–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤—Ć—é, –ļ–Ĺ–ł–≥–ł
–ü–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź:
–ē—Č–Ķ –Ĺ–į —ć—ā—É —ā–Ķ–ľ—É
-

–Ě–ł—Ä–≤–į–Ĺ–į –ģ–Ľ–ł–ł –Ď–į—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ
–ģ–Ľ–ł—Ź –Ď–į—Ā–ĺ–≤–į - –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –≤ –Ķ–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–į—Ö - –ł –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤ –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ - –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ, —ā–ĺ–Ĺ–ļ–ĺ–Ķ, –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ–Ķ –ł —ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –Ľ—é–ī—Ź–ľ, –≥–Ķ—Ä–ĺ—Ź–ľ. –ě–Ĺ–ł - –∂–ł–≤—č–Ķ –Ľ—é–ī–ł, —Ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—é, –Ĺ–Ķ—Ä–≤–į–ľ–ł, –Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć—é –ł –ļ—Ä–ĺ–≤—Ć—é.
-

–Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł–Ļ –ď–Ľ—É—Ö–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–į—ā–į–ļ–ĺ–ľ–Ī—č
–í—č—ą–Ľ–į —Ą–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–Ķ—Ā—ā—Ā–Ķ–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–į –Ĺ—É–Ľ–Ķ–≤—č—Ö ‚Äď —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł—Ź –ď–Ľ—É—Ö–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–ú–Ķ—ā—Ä–ĺ 2035¬Ľ.
-

–Ě–į–ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł —Ā –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ
–ź–≤—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–į—Ź —Ā–Ķ—Ä–ł—Ź —ā–Ķ–Ľ–Ķ–≤–Ķ–ī—É—Č–Ķ–≥–ĺ –õ–Ķ–ĺ–Ĺ–ł–ī–į –ü–į—Ä—Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į ¬ę–Ě–į–ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł¬Ľ –Ņ–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—č–ľ —ā–ĺ–ľ–ĺ–ľ ‚Äď ¬ę–Ě–į–ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł. –Ě–į—ą–į —ć—Ä–į 1946-1960¬Ľ




































–Ē–ĺ–Ī–į–≤–ł—ā—Ć –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–Ļ
–Ē–Ľ—Ź –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–ļ–ł –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł—Ź –≤–į–ľ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ł–∑–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź.